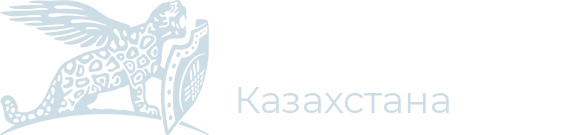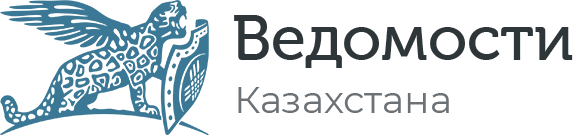Казахстан в условиях спрессованного времени
Пресечение попытки государственного переворота и так уже подвело черту под президентским транзитом, а принятие президентом Токаевым председательства в партии «Нур-Отан» стало тоже необходимым заключительным актом.
Необходимым, потому что откажись глава государства возглавить «партию власти», это стало бы слишком демонстративным отказом от выбранной линии на преемственность, и сразу стало бы началом некоей политической реформы – при никак пока не оглашенных и не отрефлексированных обществом ее хотя бы контуров.
А ведь любая сколько-нибудь серьезная политическая реформа неизбежно выводит на необходимость изменения Конституции, а это такое дело, которое с наскока не делается.
Не будем забывать, что уходящая с «елбасы» историческая, она же экономическая и политическая эпоха начиналась с принятия Конституции 1995 года и с уходом бывшего президента эта эпоха отнюдь не завершена.
Сейчас мы живем в некоем промежутке, целиком заполненным рефлексией на январские события, попытками властей загладить потери и улучшить самочувствие населения через недопущение ухудшения и хоть какое-то улучшение социально-экономической ситуации.
При том, что принципы и механизмы внешнеэкономической деятельности и устройства внутреннего рынка остаются все теми же.
Раскулачивание олигархов через фонд «Казакстан халкына» — акт политически верный и злободневный, но с экономической точки зрения это пока всего лишь перераспределение имеющихся денежных потоков, без создания новых.
Внешний платежный баланс Казахстана – дефицитен, валюта не приходит, а выводится наружу. Внутренний рынок задыхается по всем статьям – это недостаток спроса из-за нижайшей платежеспособности населения и всего несырьевого бизнеса, это удушающая дороговизна и к тому же недоступность производственного кредитования и это едва ли не полное отсутствие внутри страны национального инвестиционного потенциала.
СНАЧАЛА ЭКОНОМИКА, ПОТОМ ПОЛИТИКА
Этот материал как раз и посвящен расшифровке таких печальных финансовых констатаций, с вытекающими из этого соображениями по новому экономическому курсу.
А поскольку экономика есть базис, из необходимости смены экономического курса вытекают и политические реформы, необходимые для его обеспечения. Как бы ни фонтанировала сейчас возбужденная общественность идеями-требованиями немедленно все переделать.
Дело, повторим, трудное и небыстрое. В анонсированном на сентябрь президентском послании, хорошо, если мы увидим хотя бы общий контур экономического и политического реформирования, позволяющий выйти на пакет уже конституционных изменений хотя бы к началу следующих президентских выборов. Задача тем более трудна, что ситуация требует от властей сосредоточения на неотложных стабилизационных действиях оперативно-тактического характера.
У президента Токаева чрезвычайно сжато политическое время. Обретя после подавления январского путча безусловный авторитет и поддержку подавляющего большинства граждан, он одновременно консолидировал все те силы внутри Казахстана и снаружи, которые уже начали отыгрывать «расстрел мирных протестующих» и «вмешательство оккупационных сил».
ЭТАПЫ ПРОЙДЕНОГО ПУТИ
Для понимания нынешнего состояние базиса казахстанской экономики рассмотрим такие сопоставительно-хронологические данные.
Возьмем для сравнения 2000-й, 2013-й и 2021-й годы. ВВП в млрд долларов был в эти годы соответственно $18, $237 и $172 миллиардов. Экспорт составил $9, $85 и $60 млрд. Импорт – $5, $49 и $40 млрд.
Международная инвестиционная позиция (МИП) Казахстана сложилась в «-$11 млрд», «-$35 млрд» и «-$80 млрд», соответственно. Золотовалютные резервы вместе с Нацфондом сложились в $3, $105 и $90 млрд.
Доля наемных работников от всех трудоспособных была на уровне 50 %, 66 % и 73 %. Самозанятых – 38 %, 28 % и 22 %.
2000 год – это начало «тучных лет», промежуток между Конституцией 1995 года, дающей президенту несменяемую и неограниченную власть и осуществленной сразу после этого «макростабилизацией», «приватизацией по индивидуальным проектам» и «полной конвертируемостью тенге».
В результате как раз к началу роста мировых сырьевых цен основные мощности нефтегазового комплекса, черной и цветной металлургии перешли в иностранную собственность, а национальная валюта тенге стала «казахским долларом», эмитируемым уже не кредитным, а обменным образом – через скупку Национальным банком излишков платежного баланса.
Чуть позже для стерилизации излишков был создан Национальный фонд.
Как видим, внешнеэкономические показатели на старте такой экономической модели были весьма скромны – тем впечатляющи достигнутые результаты.
2013 год – именно этот год мы должны считать завершающим в череде «тучных лет», поскольку мировой кризис 2007 – 2008 годов более напугал, чем ударил по экономике Казахстана.
Коллизии на мировом финансовом рынке нас вообще не коснулись по причине не связанности с ним (если на считать внешнего дефолта БТА-банка, но это уже другая история).
Обрушение же нефтяных цен в 2008 году было кратковременным, при взлете их на еще больший уровень.
Таким образом, именно в 2013 году Казахстан имел лучшие, недостижимые до сих пор (и теперь уже недостижимые никогда) внешнеэкономические показатели.
На вершине тех успехов было провозглашено досрочное выполнение Стратегии «Казахстан-2030» и выдвинута программа «Казахстан-2050».
Но в то же время это появление Таможенного и Евразийского экономического союза, начало новой геополитической эпохи, обрушения мировых нефтяных цен, ответной девальвации рубля, потом догоняющей девальвации тенге и далее до настоящего времени.
Каковое время – это демонстрируют приведенные данные, есть для нас уже «возвращение с ярмарки». Ожидаемый ВВП по закончившемуся году – сильно меньше значений десятилетней давности, показатели экспорта и импорта – тоже, запасы Национального фонда – расходуются. И только МИП – международная инвестиционная позиция Казахстана, выросла более чем в два раза, с минусом, к сожалению.
А ведь от этого минуса и отсчитывается вывоз валюты из страны иностранными инвесторами и кредиторами, превышающий уже чистый (за вычетом импорта) экспорт товаров и услуг. Вот в такой, по данным за три квартала 2021 года пропорции: чистый экспорт – плюс $13,8 млрд, финансовые доходы – минус $16,9 млрд, итого сальдо счета текущих операций – минус 3,1 млрд. долларов. По публикации результатов года этот минус, по всей видимости, станет только больше.
СНАРУЖИ – ГРУСТНО, ВНУТРИ – ПУСТО
Перейдем теперь к рассмотрению денежного обеспечения во внутренней экономике, но сначала обратимся к последним двум данным по трудоспособному населению.
Мы помним, какие надежды возлагались и какие ресурсы вкладывались в программы форсированного индустриально-инновационного развития и в многочисленные программы создания рабочих мест, вплоть до провозглашения «общества всеобщего труда».
И да, по сравнению с началом «тучных лет» и даже с пиком 2013 года, занятость слегка повысилась. Однако экономика Казахстан и по сей день способна трудоустроить лишь 73 % того количества граждан, которое статистика насчитывает по строчке «рабочая сила».
А 22 % процента или 2,1 млн. человек – самозанятые, и это официальные статданные.
Соединим эти два миллиона «лишних» для данной экономической модели казахстанцев с той половиной населения, которая живет, по данным президента Токаева, на 50 тысяч тенге в месяц, получим готовую протестную массу, ждущую только своих вожаков и организаторов.
А коль скоро вместо притока ресурсов с внешнего рынка мы имеем их отток, особое значение приобретает способность монетарных властей создавать необходимый кредитный и инвестиционный ресурс внутри Казахстана.
Смотрим кредиты экономике за 2021 год: всего выдано 17838 млрд тенге, или 24 % от ВВП. Заметим, нормальным считается объем кредитования, равный ВВП. Но хуже другое: из всей категорически недостаточной кредитной массы промышленности досталось только 14,2 %, торговле -10,9 %, строительству 3,3 %, а сельскому хозяйству 1,8 %. Фактически – крохи. Тогда как остальные 66 % ушли на потребительское кредитование. Основанное, как мы все понимаем, на импорте.
То есть, вполне официальная и открытая для публичного доступа банковская статистика свидетельствует: банковская система на две трети, как минимум, работает на поощрение иностранного производителя и кредитное закабаление населения.
На первый взгляд, в такой отчетности можно усомниться – ведь так элементарно не может быть, чтобы всей промышленности доставалось лишь чуть более 14 % кредитной массы, а всему Агропрому – меньше двух процентов.
Однако такие данные как раз и отражают горькую правду. Промышленность в Казахстане – по преимуществу экспортно-сырьевая, в основном кредитующаяся на внешнем рынке – усугубляя тем самым отток валюты на обслуживание таких кредитов. А что касается сельского хозяйства, то банковский коммерческий кредит в него практически не идет, его подменяют многочисленные бюджетные субсидии и дотации.
НЕ ИНВЕСТИРУЕШЬ – НЕ ЖИВЕШЬ
Не менее важный с точки зрения потенциала экономики показатель – инвестиции в основной капитал. По отчету за 2021 год, это 13,2 трлн тенге, или 17,9 % от ожидаемого ВВП. Тогда как для нормального самочувствия экономика должна иметь хотя бы 25-30 процентов ВВП, вкладываемых в основные фонды.
Но, опять-таки, хуже другое – более трех четвертей таких инвестиций – иностранные, вкладываемые в закрепление «вывозной» экономической зависимости. Что более чем очевидно демонстрирует такой расклад по направлениям инвестирования: горнодобывающая (читай – нефтяная) промышленность – 56 %, операции с недвижимостью (читай – скупка недвижимости) – 19,8 %, обрабатывающая (читай – черная и цветная металлургия, работающие на экспорт) промышленность – 11,7 %, транспорт (читай – трубопроводный) – 10,7 %. Вот это и есть фактический вклад иностранных инвесторов в «вывозную» экономику Казахстана.
На долю же местных (читай – бюджетных) инвестиций приходятся такие проценты: сельское хозяйство – 5,8%, образование – 2,2 %, здравоохранение – 1,5 %, строительство – 1,2 %.
На большее у государственного бюджета просто нет ресурсов. А что касается местного бизнеса, опирающегося на весьма ограниченный платежеспособный спрос внутреннего рынка, имеющего выручку в «плавающей» национальной валюте и непростой доступ к кредитам заведомо удушающей стоимости – весь его потенциал уходит на выживание, об инвестировании в развитие и речи нет.
Всю такую картину подтверждает и расклад инвестиций по источникам: 71 % — собственные средства предприятий. Читай – предприятий экспортно-сырьевого комплекса, в основном, иностранных. Далее, 15 % это бюджет, — те самые вложения в сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Что характерно: на кредиты банков приходятся лишь 3% — банковская система напрочь отморожена от самого главного – инвестиций в экономическое развитие.
Подчеркнем: все приведенные данные – из официальной статистики, она убийственно разоблачительна, было бы кому обратить внимание на такие цифры и начать делать выводы.
ПРОГРАММНЫЙ ПРОВАЛ
Впрочем, не менее само-разоблачительны и государственные программы, — того самого «постмайданного» и евразийского периода, вход в который обозначился еще в переломном 2013 году.
Так, План нации «Сто конкретных шагов», принятый весной 2015 года, был прямой реакцией на резкое изменение внешней экономической и геополитической обстановки и предлагаемый им новый экономический базис основывался на привлечение в Казахстан «якорных» инвесторов. Именно таких, которые вкладывались бы в развитие не сырьевых переделов и в вывод такой продукции на внешние рынки.
В этой базисной части «100 шагов» были провалены полностью, сокрушительно и фундаментально. Достаточно раскрыть раздел III «Индустриализация и экономический рост» и прямо пальцем провести по всем его «якорным» шагам – не получилось ни одного. Само собой, повисли без фундамента и все остальные разделы, посвященные формированию современного государственного аппарата, обеспечению верховенства закона, транспарентному подотчетному государству и «нации единого будущего».
Да, фундаментальный провал «Плана нации» до сей поры никем не отрефлексирован и даже как бы не замечен. За исключением объявленного президентом Токаевым, – вскоре после вступления в должность, намерения возобновить работу предусмотренной тем планом Национальной комиссии по модернизации. Каковая и возобновилась в несколько измененном составе и под измененным на «Высший совет по реформам» названием.
ШАГИ ПО ПРОВАЛАМ
Скажем прямым текстом: деятельность Высшего совета по реформам, заодно с АСПИР (Агентство по стратегическому планированию и реформам), повторяя и кадровый состав, и экономические концепты проваленного «Плана нации сто шагов», уже продемонстрировала столь же фундаментальный провал, — хотя бы в чисто финансовом смысле.
Достаточно посмотреть на пропущенный через ВСР пакет национальных программ. Во все заложенные в них мероприятия на период 2022-2025 годов предполагается инвестировать 32 трлн тенге, из которых 5,4 трлн должен выделить республиканский бюджет.
Остальное – частные инвестиции, — прямо так и записано, без какого-либо указания источников или хотя бы расклада, сколько предполагается получить от казахстанских, а сколько от иностранных, — и хотя бы из каких стран, инвесторов.
При том, — и вот это известно заранее, что таких инвестиций внутри Казахстана нет, а иностранные инвесторы ни во что, кроме «вывозной» экономической модели, вкладываться не будут.
ОТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ К НАЦИОНАЛЬНЫМ
Если, конечно, не начать менять саму экономическую модель, — в сторону превращения иностранных инвесторов в национальных. Нет, речь не о том, чтобы устраивать переделы собственности, изгонять нынешних инвесторов ради каких-то других. На данном историческом этапе Казахстану нужна национализация не экспортно-сырьевых комплексов, а национализация собственно внешнеэкономической деятельности, — и об этом мы обязательно напишем.
Но для восприятия такой новой постановки вопроса требуется сначала уяснить фактически колониальную и тупиковую сущность нынешнего экономического базиса. Чего в экспертном сообществе стараются пока не замечать, а правительство так и в упор не видит. По всей видимости – не видит и на самом деле. Хотя незнание экономических реалий не освобождает от ответственности за их последствия.
Время между тем спрессовывается все быстрее не только для президента, — для всего Казахстана. Особенно с учетом того, что уже в этом году, похоже, начинаются геополитические развязки мирового долларового кризиса и в целом глобальной гибридной войны.
Но даже и одних внутренних причин достаточно для понимания: впереди у нас либо неизбежное «прокисание» социально-экономической ситуации на фоне резкого усиления активности на партийно-политическом поле, подпитанной потерей постов целым рядом крупных фигур прежнего режима, с серьезными финансами, клановыми и административными связями. А это – влечет ослабление общей устойчивости властной конструкции и разрастание общественной смуты.
Либо это начало серьезного разговора президента и правительства с иностранными инвесторами и кредиторами, с иностранными собственниками казахстанских базовых экономических комплексов, для чего как раз и потребуются политические реформы.
По сути, политика становится в данном случае базисом, поскольку успешный переход на национально ориентированную экономическую модель потребует опоры казахстанской стороны на представительство всей нации, консолидированной общим пониманием своего интереса и пониманием собственной перспективы.
Включая и перспективу Евразийскую, поскольку Казахстан, казахи и казахстанцы есть неотъемлемая историческая и географическая часть Евразийской цивилизации, вне которой или без которой остается быть только «многовекторным» объектом внешней эксплуатации и пешкой в чужих играх, благополучное же национальное будущее не достижимо.
Петр СВОИК, специально для «Ведомостей Казахстана»
Автор:
Исторические ведомости