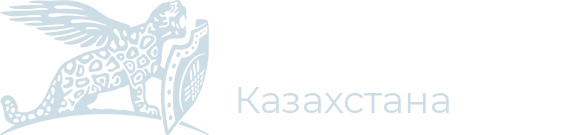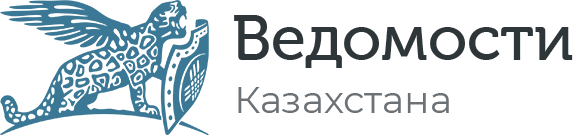Сотрудничество Казахстана с Китаем в деньгах и товарах, новые реалии и реинкарнация проекта Транстихоокеанского партнерства
Будучи географически азиатским государством, но на протяжении длительного времени фактически оторванным от этой части света, теперь Казахстан активно интегрируется с ее экономикой даже во время пандемии коронавируса.
НАЧИНАЛИ ПОЧТИ С НУЛЯ
Его главным проводником в возвращении к «матери Азии» служит Китай, для которого Казахстан выступает в свою очередь в роли сухопутного «окна» в Европу и на Ближний Восток. И, судя по данным официальной статистики, такая необычная интеграция гиганта, претендующего на роль главной экономической державы мира, и относительно небольшой страны по численности населения и размеру экономики, каковой является Казахстан, оказалась вполне эффективной и взаимовыгодной.
Об этом говорит последовательное увеличение доли Китая во внешнеторговом обороте Казахстана и объема взаимной торговли в абсолютном выражении вместе со значительным увеличением транзита грузов через территорию последнего из Поднебесной в Европу.
Сейчас в это верится с трудом, но к моменту обретения Казахстаном независимости, проходившая по его территории граница тогдашнего СССР с Китаем была совсем непохожа на нынешнюю, мирную, добрососедскую и открытую для транзита грузов.
Ведь, начиная с конца 50-х годов прошлого века, отношения двух стран настолько ухудшились из-за идеологических разногласий, что дело дошло не только до аннулирования ранее заключенных ими торговых договоров, но и вообще до полного раскола между двумя правившими компартиями, а потом и до вооруженных пограничных конфликтов. Один из них – в районе Джунгарских ворот у озера Жаланашколь – произошел на территории, входившей в состав тогдашней Казахской ССР.
Неудивительно, что в ту тревожную пору Казахстан оказался на переднем крае советско-китайского противостояния, а в Алматы разместилась штаб-квартира Среднеазиатского военного округа.
Кстати, для него тогда экстренно был передан только что выстроенный студенческий городок вместе с новым корпусом Алматинского института народного хозяйства, в котором тогда учился автор этих строк. И тогда же во время летнего строительного сезона в составе студенческого отряда, возводившего объекты в районе приграничного города Панфилов (ныне Жаркент), довелось воочию убедиться в огромной боевой мощи советских войск, сконцентрированных на запечатанной наглухо границе с Китаем.
После начала перестройки в СССР отношения между приграничными районами двух стран начали восстанавливаться. Уже в конце 80-х годов в алматинском ЦУМе можно было увидеть китайских граждан, активно скупавших драповые пальто с меховыми воротниками, шляпы и калоши, годами пылившиеся на полках и вешалках.
Поскольку вся внешняя торговля шла тогда через Москву, то в статистике советских времен входившие в СССР республики не выделялись. К тому же статистика эта велась в рублях с его искусственно завышенным официальным курсом к доллару.
Тем не менее, в 80-х годах торговля СССР с Китаем начала быстро восстанавливаться, и за десятилетие ее объем вырос примерно с $200 млн. почти до $5,5 млрд. К концу того периода, то есть в канун своего распада, СССР вошел в пятерку ведущих торговых партнеров Китая, правда, с весьма скромной долей в его общем внешнеторговом обороте порядка 4 %.
СССР И НЕ СНИЛОСЬ
На фоне столь скромных показателей распавшейся сверхдержавы динамика казахстанско-китайского экономического сотрудничества выглядит впечатляюще. Уже в 1992 году, первом полном для независимого существования Казахстана, объем его торговли с Китаем составил $433 млн., а в прошлом году достиг $15,4 млрд. с ростом за минувшие почти три десятилетия в 35,5 раз.
Более того, это в 2,8 раза больше, чем объем торговли с Китаем всего СССР к моменту распада последнего! Но и эти обороты гораздо меньше оценок китайской официальной статистики, согласно которым объем взаимной торговли двух стран достиг в 2019 году почти $22 млрд. против $14,4 млрд. по данным казахстанских статистиков.
Кстати, в Казахстане признают наличие такого постоянного расхождения с китайской статистикой, которое в прошлом году достигло $5,3 млрд. Как пояснили в Комитете госдоходов, более половины от общей суммы относится к транзиту китайских товаров, перемещаемых из Китая через Казахстан. Еще 20 % приходится на товары, реализуемые через МЦПС «Хоргос», и почтовые посылки, а оставшиеся 27 % (примерно $1,5 млрд.) относятся к занижению таможенной стоимости казахстанскими импортерами.
Примечательно и то, что в условиях пандемии коронавируса объем казахстанско-китайской торговли в прошлом году не сократился, а вырос на 7 %, что вполне сравнимо с темпами роста в докоронавирусном 2019 году.
Правда, основу казахстанского экспорта по-прежнему составляют сырьевые товары – нефть, газ, руды, металлы и сплавы, пшеница, масличные культуры. Из Китая же в Казахстан поставляются овощи и фрукты, химические продукты, потребительские товары, стройматериалы, металлоконструкции, оборудование, компьютеры, мебель.
Резко вырос за годы независимости Казахстана и приток прямых иностранных инвестиций из Китая, стартовавший с весьма скромной отметки в $5 млн. в 1993 году. В 2019 году их объем достиг $1,7 млрд. с ростом в 340 раз за этот период, причем Китай занял четвертое место по этому показателю, уступая только Нидерландам, США и Швейцарии, но сумев опередить другого крупного соседа Казахстана – Россию. Кстати, по данным отечественных статистиков товарооборот с последней сократился в прошлом году на 7,6 %.
Основой столь выраженной динамики двустороннего экономического сотрудничества, безусловно, является созданная практически с нуля мощная и хорошо проработанная договорно-правовая база казахстанско-китайских отношений, насчитывающая более 250 самых разных соглашений.
Фундаментальными среди них выступают договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2002 года, совместные декларации – об установлении и развитии стратегического партнерства (2005 год) и о новом этапе отношений всестороннего стратегического партнерства (2015 год), а также сентябрьское 2019 года заявление глав двух государств о развитии их вечного, стратегического и всестороннего партнерства.
НОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЕВРАЗИИ
Напомним и о том, что в ходе визита казахстанского президента в Китай в сентябре 2019 года был подписан еще один важный стратегический документ, выводящий экономики двух стран далеко за их национальные рамки, – межправительственный меморандум о реализации плана сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики «Нұрлы жол» и строительства «Экономического пояса Шелкового пути» (проект «Один пояс, один путь»).
Напомним, что эти два масштабных проекта были предложены практически одновременно. Первый президент РК – Елбасы озвучил принципы Новой экономической политики «Нұрлы жол» в своем послании народу Казахстана в ноябре 2014 года.
Стержнем НЭП стал план инфраструктурного развития, рассчитанный на 5 лет и совпавший по времени со второй пятилеткой реализации госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития.
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры предполагалось осуществлять в рамках формирования макрорегионов по принципу хабов, связав столицу Казахстана и макрорегионы инфраструктурным каркасом по лучевому принципу магистральными автомобильными, железнодорожными маршрутами и авиалиниями. При этом список основных автодорожных проектов возглавлял маршрут «Западный Китай – Западная Европа».
Предложение же объединенных проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» («Один пояс и один путь») китайский лидер Си Цзиньпин озвучил во время визитов в Казахстан и Индонезию осенью 2013 года.
Осуществление этой инициативы стало фокусом внешнеполитической деятельности Китая в 2015 году и включено в план 13-й пятилетки развития, принятый в 2016 году.
В рамках проекта «Экономического пояса Шелкового пути» создаются три трансевразийских экономических коридора: северный (Китай – Центральная Азия – Россия – Европа), центральный (Китай – Центральная и Передняя Азия – Персидский залив и Средиземное море) и южный (Китай – Юго-Восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан).
Проект «Морской Шелковый путь XXI века» предусматривает создание двух морских маршрутов, соединяющих побережье Китая через Южно-Китайское море с Южно-Тихоокеанским регионом и приморских районов Китая с Европой через Южно-Китайское море и Индийский океан.
Смыкание этих двух масштабных инфраструктурных проектов придало новый импульс казахстанско-китайским торгово-экономическим связям и позволило значительно нарастить не только транзитный потенциал обеих стран, но и существенно расширить возможности экспорта производимых ими товаров, а также диверсифицировать его географические направления.
К примеру, количество грузовых поездов по маршруту Китай-Европа и обратно, проследовавших через Синьцзян-Уйгурский автономный район и территорию Казахстана на контрольно-пропускных пунктах Алашанькоу и Хоргос, подпрыгнуло в прошлом году почти на 40 %!
С учетом же членства Казахстана в ЕАЭС и подписанных соглашений этим союзом о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром и другими государствами, с одной стороны, и заключенного между Китаем и странами АСЕАН соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) с другой, открылись новые перспективы для расширения торгово-экономического сотрудничества во всей Евразии с выходом в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Во всяком случае, сейчас вполне реально просматриваются перспективы сопряжения ЕАЭС, АСЕАН и ШОС, особенно если Россия или даже весь ЕАЭС присоединятся к ВРЭП. Стоит напомнить и о том, что целый ряд государств-участников ВРЭП одновременно являются подписантами другого регионального внешнеторгового соглашения – о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
Увы, оно было торпедировано предыдущей президентской администрацией США. Но если учесть, что переговоры об участии США в ТТП были начаты администрацией Барака Обамы в 2008 году, в которой нынешний американский президент Джо Байден был вице-президентом, то можно предположить, что и его страна де-факто подключится к процессу формирования новой конфигурации отношений в Евразии.
И эта быстро развивающаяся необычная конфигурация действительно открывает широкие возможности для сочетания факторов и повесток, ранее взаимно исключавших друг друга априори.
К примеру, ранее ЕАЭС, в котором экономически доминирует Россия в силу своих размеров, смотрелся противовесом влиянию США, Китая, Европейского Союза и Турции в Центральной Азии в целом и в Казахстане в частности.
Теперь же складывается ситуация, когда любые формы сотрудничества Центрально-Азиатского региона, в котором наша страна выступает экономическим лидером, с этими влиятельными игроками вполне укладываются в новую матрицу евразийской интеграции, не вступая в противоречие с уже действующими интеграционными образованиями.
Более того, опоздавшие на интеграционный «бал» страны могут воспользоваться уже сложившимися в рамках ЕАЭС, ШОС, ВРЭП и ТТП преимуществами свободной торговли и инфраструктурными каркасами для продвижения своих товаров и услуг.
Такая конфигурация баланса интересов по принципу «win–win», когда каждый участник остается в выигрыше, конечно же, является необычной и непривычной в Евразии. Ведь традиционно жизнь строилась здесь прежде на противопоставлении разных повесток и политик, приводивших в конечном итоге к непониманию и конфликтам.
Тулеген АСКАРОВ, специально для «Ведомостей Казахстана»
Автор:
Исторические ведомости