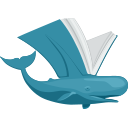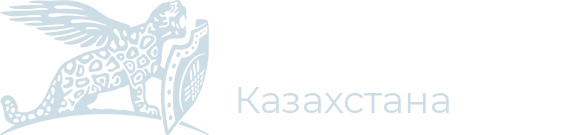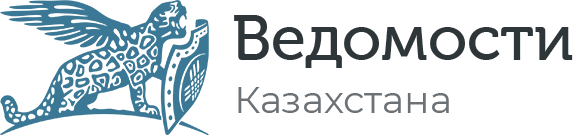Почему глава государства раскритиковал прежнюю ошибочную политику МСХ
То, что руководство Казахстана придает огромное значение развитию аграрного сектора, видно уже потому, что последние годы должность министра сельского хозяйства приравнивается к позиции вице-премьера правительства. Тем не менее, несмотря на карт-бланш от главы государства на привлечение в АПК крупных стратегических инвесторов, Минсельхоз с середины 2016 года кардинально изменил подход к отрасли, сосредоточившись исключительно на работе с личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). Это привело к заморозке активности потенциальных агрохолдингов, ранее стремившихся зайти на казахстанский рынок для переработки и экспорта нашей сельхозпродукции. Однако не все еще потеряно: напротив, оттепель во взаимоотношениях стратегических игроков на рынке и МСХ, в эти дни, позволяет с оптимизмом разглядеть перспективы нового сотрудничества.
Большая надежда
Выступая 9 февраля на расширенном заседании правительства президент Нурсултан Назарбаев подверг критике работу предыдущего министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова.
«Один крупный инвестор — компания «Иналка» из Gruppo Cremonini ходил за Аскаром Мырзахметовым, так и не смог догнать. В итоге ко мне пришла эта компания. Они перерабатывают сельхозпродукцию в сфере животноводства, вплоть до копыт и шерсти скота. 60-й и 61-й шаги «Плана нации — 100 конкретных шагов» звучат так: “привлечение стратегических инвесторов в переработку сельхозпродукции». Время идет, но до сих пор не организовано ни одного проекта с участием стратегического инвестора», — произнес глава государства.
После чего добавил, обращаясь к новому министру сельского хозяйства — заместителю председателя правительства Умирзаку Шукееву:
«В животноводстве, в переработке, в науке кардинальные меры нужны. Как опытного государственного деятеля, с большой надеждой я тебя отправил в МСХ».
Как «заморозили» ключевого инвестора
Транснациональная корпорация из Италии «Иналка» (Inalca) – один из крупнейших производителей и переработчиков мяса в мире. Компания владеет своей дистрибьюторской сетью в 70 странах, а также кафе, ресторанами и пунктами быстрого питания. Годовой оборот Inalca – 5 млрд. евро.
Вице-президент «Иналка Евразия» (Inalca Eurasia) Андрей Вакулин, объясняя слова президента, отметил, что руководитель страны образно высказался о ключевых моментах взаимодействия иностранного инвестора с Минсельхозом.
«Дело в том, что наша компания еще в 2015 году на выставке Экспо в Милане в присутствии президента Казахстана и премьер-министра Италии подписала большое инвестиционное соглашение с АО «Казнекс Инвест». Меморандум гласил, что «Иналка» готова инвестировать в переработку и дистрибуцию мяса в республике — полмиллиарда евро в течении десяти лет. У вашего Минсельхоза в то время была очень хорошая программа поддержки, в частности — инвестиционные субсидии, составлявшие более 30 %. И на основании этой программы мы планировали писать свой бизнес-план и уже подбирали землю под строительство мясоперерабатывающего завода в Илийском районе Алматинской области. Проектная мощность предприятия на первом этапе планировалась на уровне 30 тыс. тонн мяса говядины. Экспортный потенциал предприятия был широк: Россия, Китай, страны Центральной Азии. Начало строительства было запланировано на лето 2016 года», — рассказал Андрей Вакулин.
Однако планам иностранного инвестора не суждено было сбыться. Как известно, в мае 2016 года в Минсельхозе поменялось руководство. Новому министру и его команде стали интересны другие направления, которые, к сожалению, стали реализовываться в ущерб стратегическому инвестору.
«Политика Минсельхоза поменялась в сторону большего акцента на личные подсобные хозяйства, их объединение. Интерес к профессиональным фермерским хозяйствам или крупным компаниям пропал. Нам дали понять, что мы не вписываемся в современную действительность. Предыдущая программа, в рамках которой мы рассчитывали зайти на казахстанский рынок, была отменена. При этом, новой программы не было на протяжении 10 месяцев. Впоследствии, когда она появилась, стало очевидно, что она ориентирована сугубо на мелкий бизнес. Да, сохранялись те же нормативы в 30 % по инвестиционным субсидиям. Но были выставлены верхние лимиты на стоимость оборудования и техники. Например, верхний предел линии по убою скота составлял 150 тыс. евро, а в нашем проекте линия по убою стоит не менее 5 млн. евро. То есть, фактически вместо 30 % мы могли претендовать лишь на 1 % инвестиционных субсидий. А раз так, то мы приостановили свой проект в Казахстане», — констатировал Андрей Вакулин.
Вице-президент «Иналка Евразия» убежден, что рынок промышленной говядины на сегодняшний день в Казахстане не сложился. Консолидация рынка только-только началась, а потому инвестору чрезвычайно сложно без государственной поддержки. Кроме того, как считает Андрей Вакулин, выход на экспорт — это тоже большая и трудоемкая работа.
«Благодаря тому, что «Иналка» присутствует на рынках 70 стран, у компании имеется видение, как выйти на эти рынки, но это все непросто, все равно нужны дополнительные усилия, чтобы продукцию страны, которая не была экспортером, презентовать на внешних рынках. Это и маркетинговые усилия, и совместные действия инвестора и государства. Практически нигде в мире чудес не бывает. Если государство не поддерживает экспортеров, то выйти на внешние рынки при текущем уровне конкуренции архисложно», — признался инвестор.
Ошибочная ставка Минсельхоза
В чем же суть кардинально иного подхода аграрного ведомства в период Аскара Мырзахметова, почему он не сработал и что вызвало критику президента на расширенном заседании правительства?
Дело в том, что существуют ЛПХ — личные хозяйства обычных граждан, которые не занимаются профессионально выращиванием скота. Это, как правило, огороды и пара-тройка голов крупного рогатого скота: для личного прокорма или для спорадических поставок мелких партий мяса на соседний рынок. Предполагать, что держатели одной-двух коров «для себя» вдруг объединяться с соседями или родственниками и станут крупнее, чрезвычайно наивно. Во-первых, они занимаются с позволения сказать «животноводством» в свободное от основной работы время, то есть называть их фермерами было бы крайне несерьезно. Во-вторых, объединение нескольких дворов для выращивания говядины в одно более крупное ЛПХ все равно не даст положительной синергии, так как в любом случае оно останется мелким и непрофессиональным. Оно все равно не будет способным обеспечить необходимый ветеринарный контроль, ее ресурсов не хватит на внедрение технологий, а объемы продаж все равно окажутся низкими — разве что для местного базара, пары магазинов или ресторанов. При этом, рассчитывать на то, что в одно крупное хозяйство объединится, допустим, сотня ЛПХ с одной коровой каждое, весьма самонадеянно. Зачем это простым «огородникам» и как они потом будут делить власть в этом большом ЛПХ? А как распределять ответственность? В-третьих, любое объединение мелких непрофессиональных хозяйств под эгидой некой придуманной госпрограммы, обязательно приведет к одному печальному результату. Если кто-то это и сделает, то только для видимости, чтобы поскорее получить обещанное финансирование. И далеко не факт, что оно пойдет по назначению. Что — увы, и произошло в период реализации программы поддержки ЛПХ.
«Понимаете, мясное скотоводство — это целая цепочка бизнес-процессов. Это и генетика, и выращивание молодняка, откорм, убой и логистика. Больше всего из этих элементов эффективно реализуют именно крупные компании, крупный бизнес. Это убой, откорм, переработка и логистика. А есть элемент, который хорошо осуществляют небольшие, но профессиональные фермерские хозяйства — это выращивание молодняка. ЛПХ в этой технологической цепочке вообще физически не присутствуют. Потому что во всем мире средний размер малого профессионального фермерского хозяйства — 50 голов в мясном скотоводстве. Вот такие малые, но профессиональные хозяйства и могут объединиться с крупными агрофермами для решения тактических задач. Вот тогда и можно получить максимальный эффект. Потому что если крупная компания будет корпеть над всей цепочкой, ее мясо будет очень дорогим — для «премиум-сегмента». А если малый бизнес возьмется за убой или откорм, он тоже спровоцирует у себя рост издержек и себестоимости. Но если государство не будет поддерживать именно этих профессионалов, а сосредоточится на поддержке мелких «любителей» в лице ЛПХ, то оно рискует вообще утратить мясную отрасль как таковую», — говорит Андрей Вакулин.
По его словам, для Казахстана сейчас сложилась уникальная ситуация по сравнению с другими странами мира. Имеется дешевая и качественная земля. Более того, самый большой массив природных пастбищ в мире сосредоточен в Центральной Азии, тогда как 80 % этого земельного сельхозмассива приходится на Казахстан.
«Еще одно преимущество заключается в том, что основные рынки сбыта находятся под боком. Это самые платежеспособные рынки, которые никогда не смогут себя накормить: Китай, Ближний Восток, страны Центральной Азии. Имея такие огромные конкурентные преимущества Казахстан бесспорно обладает возможностью стать крупным игроком на экспортном рынке. Просто для этого нужны усилия государства для построения инфраструктуры скотоводства. Государство должно помогать профессиональным фермерам эффективно работать на этом рынке — это поддержка на первых порах, доступность финансов, недискриминационный доступ на рынок, организация каналов сбыта», — заверил Вакулин.
«Любители» никогда не договорятся, только профессионалы
Философию иностранного инвестора поддержал и казахстанский предприниматель в сфере животноводства, учредитель ТОО «СеверАгро Н» Альжан Хабиев.
По мнению Хабиева, проект строительства мощного мясоперерабатывающего завода в Алматинской области появился не на пустом месте. Проект возник как закономерный результат программы развития мясной отрасли.
«Инвестор никогда не приходит туда, где ничего нет. Ему это не нужно — вкладывать деньги, свои знания, время туда, где нет условий. Он готов вкладывать ресурсы если увидит определенную инфраструктуру: откормплощадки, кормопроизводства, генетику, скот и рынки сбыта. Поэтому он и решил тоже поучаствовать, фактически признав нашу страну и нашу мясную отрасль потенциально крупными мировыми игроками. Чего никогда не было раньше. Потому проект и вписали в 67-й шаг «Плана нации» — привлечение международного стратегического инвестора в мясную отрасль. Потом инвестор попытался продолжить свои планы, но политика министерства кардинально поменялась — от поддержки экспортно-ориентированной мясной отрасли резко ушли и начали поддерживать занятость на селе, хотя по идее одно другому не мешает. Не нужно было все радикально отменять и отрезать от субсидий стратегических инвесторов. А они отменили инвестиционные субсидии крупным переработчикам и весь бизнес встал. Никто не знал, что делать дальше: развиваться или сохранить действующий объем или вообще свернуть свою деятельность. Эти меры сильно отразились на инвестиционном климате и инвестиционной привлекательности отрасли, поэтому инвестор и заморозил свои планы», — поведал Альжан Хабиев.
Учредитель «СеверАгро Н» пытается объяснить политику Минсельхоза при прежнем руководстве с идеологической стороны. Мол, была такая уверенность, что ЛПХ объединятся, станут крупными и начнут диктовать свои условия рынку.
«Но это было сделано без учета фактических реалий, потому что, во-первых, объединить людей достаточно проблематично, ведь у многих разобщенные интересы. Во-вторых, такой скот, даже собрав его в кучу с нескольких подворий не будет являться товарной партией ни по ветеринарным требованиям, ни по качеству, ни по ценовой политике. Наконец, непонятно с кем заключать договор, как будет распределяться ответственность. Поэтому даже объединив ЛПХ, трудно добиться, что они станут полноценными агрохолдингами», — подчеркивает Хабиев.
Хабиев соглашается с Вакулиным в том, что весь цимес заключается и в правильном распределении видов деятельности. По его словам, небольшие профессиональные фермерские хозяйства, безусловно, являются опорой более крупных. Они хорошо умеют выращивать скот и именно на этом следует сконцентрироваться во взаимодействии с ними. Все же остальное делали, делают и будут делать изначально более крупные игроки на рынке животноводства.
«Мы сейчас даже советуем крупным фермерам, которые сами хотят наращивать маточное поголовье, причем не племенное, а обычное поголовье, мы их от этой инициативы отговариваем. Мы их переубеждаем, приводя аргументы, что у них продукция окажется менее эффективной, чем у малых и средних фермерских хозяйств. Потому что у небольших хозяйств — 50 голов КРС, они с них получат минимум — 40 телят. У крупного же фермера может выйти гораздо меньше, потому что где-то недоглядят люди, где-то не хватит кормов. Риски больше, к сожалению, именно по воспроизводству маточного поголовья. Тогда как по откорму — наоборот, крупные компании лучше работают, потому что у них имеется доступ к технологиям и финансам», — объяснил Альжан Хабиев.
Утилизация под ключ
Будущий мясоперерабатывающий комплекс близ южной столицы должен будет 100-процентно перерабатывать всю тушу животных. Именно об этом на расширенном заседании правительства и говорил президент Назарбаев: «они перерабатывают вплоть до копыт и шерсти скота».
Действительно, сейчас в Казахстане имеющиеся технологические мощности переработки позволяют переработать лишь 50 % туши. Однако кровь животного, содержимое желудка, кишечное сырье, кости — просто выбрасываются.
Полная же утилизация животных подразумевает переработку содержимого желудка на органические удобрения. Кровь, если она собрана в чистом виде без попадания на пол — послужит сырьем для медицинской промышленности. Кишечное сырье — это дефицитный товар для колбасного производства. Мясокосная мука — это корма и удобрения. Жир тоже разлагается и служит составной частью для косметических и технических жиров. Прочие субпродукты идут на технические протеины, которые тоже используются в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Появление подобных высокотехнологичных производств в сфере АПК и должно стать визитной карточкой нового руководства Минсельхоза. И здесь как никогда удачно складываются сразу несколько факторов: желание самих чиновников, активность иностранных инвесторов и безоговорочная поддержка президента.
Автор:
Другие СМИ. Избранное